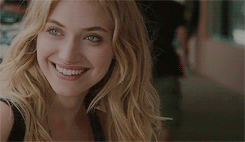«Как и все люди, я - совокупность всех событий, когда-либо происходивших со мной. Не могу сказать, хороший я человек или плохой, достойный или низкий, добрый или злой. Эти понятия итак слишком иллюзорны, а тут еще и человек - создание куда более фантазийное. Но если нельзя как-либо оценить человека, то ведь можно оценить события, сделавшие его тем, кем ему приходится быть.
Жизнь моя до семи лет была великолепна. И это не преувеличение, мы жили в потрясающем многоэтажном доме, этаже, наверное, на пятом, хотя мне казалось, что это как минимум семьдесят шестой. Мне нравилось часами сидеть у окна и смотреть на шныряющих вдоль тротуара людей. Они мне напоминали мышей, такие мелкие и вечно куда-то спешащие. Мне нравилось чувствовать насколько они беззащитны и малы с этой точки зрения, мне нравилось быть выше и чувствовать свое превосходство.
Тогда мы еще жили с мамой, милая была женщина, постоянно улыбалась, причем искренне, а не так как улыбается большинство людей. Они вбили себе в голову, что улыбка – это ключ к сердцам, что все только и ждут их одобрения. Как бы не так, неискренняя улыбка – уродство, лучше уж быть угрюмым или злым, это хотя бы честнее. Но мама была другой, ее улыбка была полна очарования, но одновременно скромна, будто бы ей хотелось скрыть все свое счастье, будто бы его так много, что это даже уже и неприлично. Именно это и придавало ей то свечение, которое она излучала вокруг себя. Я любил маму за ощущение, что именно я – причина ее счастья, я и сам был счастлив.
Отец был другим. Приземистый, некрасивый, он был болтлив и не слишком умен. Его улыбка носила иной характер: она была либо издевательской, кривой, что делало его лицо еще более карикатурным, либо полной облегчения после тяжелого трудового дня, что придавало его лицу оттенок той муки, которую он испытывал постоянно. В принципе, он был не таким уж и плохим человеком, мой отец.
Когда мне было семь, родители развелись. Этому предшествовали два года ужасных ссор, слез, криков, шипения, оскорблений, раздоров, различных «я-переночую-у-подруги» и «да-кому-ты-нужна». Но это все проходило будто бы мимо меня, мне почти не было дело до того, что там не поделили родители, я жил в своем мире, будучи всегда лучшей компанией самому себе. На улицу я выходил редко, в садик не ходил (вернее, я ходил как-то два месяца, но отец, уже потерявший к тому времени и работу, и желание найти новую, сказал, что это слишком дорого, и он сам будет сидеть со мной и братом, «раз уж ни на что другое я не годен»). Старика, конечно же, подкашивал тот факт, что у мамы большие перспективы в работе, а его не берут даже охранником. Он начинал тайно ненавидеть маму, я же любил ее, хоть и видел редко. Мне было тяжело думать о ней плохо, ведь она так всегда улыбалась мне, впоследствии я ни разу в жизни больше не встречал чего-то хоть немного похожего на эту улыбку. Моя прекрасная мама, думал я. «Твоя прекрасная мама бросила нас, сынок, - сказал мне как-то утром отец, когда готовил нам завтрак, - теперь остались только ты и я, сын, только ты и я». Бракоразводного процесса я не помню, но помню, что начинал злиться на маму. Как она могла бросить меня? Отец постоянно пичкал меня историями о том, что она просто собрала вещи, взяла Джеймса на руки и ушла себе восвояси, а нас бросила, вот такая она, сынок, твоя мать.
Я не знал в чем тут моя вина, неужели чем-то ей не угодил? Папа, да, он был груб, не воспитан. Но я всегда все делал так, как она хочет, так за что же она бросила меня?
Через год мы с отцом переехали из нашей шикарной квартиры на краю неба в маленький тусклый домик в одном из бедных районов. Я не мог простить отца, ведь теперь я был лишен той радости наблюдения за прохожими, которую так любил. Теперь я был вровень с ними и мне это не нравилось. Мне не нравилось с ними вообще.
Отец познакомил меня с Роуз, его «новой женой» и моими братьями. Один из них был старше меня, его звали Авраам, у него были кучерявые волосы и нос с горбинкой, но отец все равно называл его своим сыном и дал ему свою фамилию. Двое других были погодками, и, соответственно, младше меня на два и три года. Неплохие ребята, правда, слишком похожи на свою мать, что мне сразу не понравилось. Но отец всех их искренне любил: и Авраама, и младших Джека с Ронни, и Роуз. Он изменял моей матери, вот в чем все было дело. Но мне не было жаль маму, теперь уже не было. Какое право она имела бросить меня здесь, с ним? При каждом воспоминании о ней меня начинала разъедать изнутри ярость. Мне кажется, меня подкосило это все очень сильно. Я ведь всегда был тихим и немного замкнутым, но полная смена обстановки, мамин побег, чертова Роуз со своими детьми – это все сделало озлобленным и безжалостным. Но благодаря этому я идеально вписался в общую картину нищенского уродства этого города.
В школу я пошел в том же районе, где и жил. Стоит ли говорить о том месте? Район у нас был особенный, тут жили обыкновенные неудачники, никаких отбросов наподобие наркодилеров и уродливых проституток (если не считать мерзотной Роуз, но она была шлюхой по натуре, а не про профессии). Школьный контингент был соответствующим - все были бедны и озлоблены, и я чувствовал, что попал прямо туда, куда нужно. Я тоже был зол, господи, как же я был зол! Гораздо ниже всех своих сверстников, неприспособленный к их обществу, страшненький, я бы мог легко стать изгоем. Для этого у меня были все задатки. Но я не стал.
Я был неглупым парнем, я сразу понял, что либо ты – либо тебя. Я уже видел, как на меня посматривают местные уроды, которых все ненавидят – жирдяи, маменькины сынки, зубрилы – и мне не нравились эти взгляды. Я для них был «своим», хотя по ним было видно, что я немного их пугаю своей нелюдимостью. Но мне-то уродом местным быть не хотелось, мне просто хотелось быть как можно дальше отсюда.
Одновременно с этими взглядами я стал получать тычки и оскорбления от старшеклассников (чудо, что это произошло только через полтора-два года, а не раньше), но дальше они не шли. Запугать хотели, уверен, хотели посмотреть, как я буду входить в школу на негнущихся ногах, а лицо мое раскроит гримаса животного страха – обычные детские забавы. Но они ошибались, я не собирался быть уродом, не собирался отдавать им свои деньги, не собирался терпеть, у меня были совершенно другие планы и я им это показал. Когда один из них подошел ко мне, выгибая свои губы в отвратной ухмылочке, я почувствовал всю ярость, на которую был способен. Злость будто бы подняла меня над ними (я по-прежнему оставался невысоким), я чувствовал всю прелесть ярости, потому перед глазами поплыли черные круги, а грудь сковало железными тисками, я и вздохнуть не мог, но мои руки и ноги двигались резко, быстро и легко – у меня было ощущение, что земля стала батутом и каждый шаг наполнял мое тело легкостью.
Конечно же, меня тогда побили. Их было человек пять, а я был один, но я все равно шел домой победителем, мое и без того уродливое лицо было расквашено и похоже на какой-то пудинг, но глаза светились – я выиграл. Ведь сколько бы они меня не били, главным было не чувствовать боли и отвечать, бросаться на них, потому что выигрывает только тот, кто готов идти до конца. На исходе этой потрясающей, первой и самой памятной моей драки сквозь шум крови в ушах до меня донесся крик одного из них, он голосил, что надо уходить, что я псих, что мы «убьем его нахер», что срочно пора валить! Я, распластанный по асфальту, поднял свои блестящие яростью глаза на них, и увидел – что бы вы думали? – замешательство и удивление. С тех пор эти парни меня не трогали, а за мной увязалась парочка одноклассников, с которыми теперь мы творили правосудие. Драться мне нравилось, я быстро втянулся, и если мои приятели извлекали из этого какие-то свои фишки – например, деньги младшегодок, - то мне просто нравился процесс, будивший во мне силу живительной злости, только в этом состоянии я был полноценным человеком.
За этим и прошли оставшиеся школьные годы. Мы плелись в школу, скучали в ней, ходили к директору по поводу
ужасных отметок и кошмарного поведения, а вечером начиналось самое веселье. В том районе-то и развлечений других не было, кроме как выйти вечером на улицу и поколотить друг друга. Это не было чем-то из ряда вон, это была обычная тренировка, как футбол.
Я ни к чему не стремился, мне было плевать на свое будущее и образование, поэтому единственное, чем я занимался – слушал джаз дома. Приходил, бывало, после одной из наших вылазок, ложился на кровать, и, ощущая приятное покалывание по всему телу, включал Чета Бейкера и дрейфовал на волнах своей всепоглощающей апатии.
После школы я пошел работать, в продолжении учебы я не видел смысла, меня еще школа угнетала и вгоняла в депрессию, а тут еще убивать себя в колледже? Я устроился кассиром в какую-то захудалую букмекерскую конторку, иногда подрабатывал официантом в одном из местных баров. Денег мне на жизнь хватало, но я чувствовал, что потерял что-то. Конечно, наши детские забавы стали постепенно сходить на нет еще в старшей школе, и это меня устраивало – весь адреналиновый дух из них давно выветрился. Но, тем не менее, что-то постоянно гложило и не давало покоя. Я будто снова впал в ту детскую фрустрацию, когда сидел у окна и часами смотрел на прохожих.
Так я жил до двадцати трех лет. У меня была пара приятелей, с которыми я ходил в бары, однажды даже были отношения длинною почти в полгода, но закончилось это все из рук вон плохо, да и не мое это – "семейная жизнь". Я странно чувствовал себя - будто бы та пустота, которую я ощущал постоянно, начинает заполняться, будто бы во мне что-то растет, причем с огромной силой и скоростью. Люди вокруг стали странно реагировать на мое присутствие. Например, я перессорился со всеми знакомыми без какой-либо причины. Когда я злился, люди вокруг начинали злиться тоже (я заметил это в баре). Все реагировали на изменения моего настроения остро, будто перенимая его. Все это не могло быть совпадением, это я понял позже.
Всю правду о себе я узнал одним осенним утром. Был выходной, меня накрыла полнейшая апатия, которая частенько приходила на смену появившимся вспышкам неконтролируемой агрессии. Я услышал стук в дверь, и, открыв, увидел парня лет восемнадцати, продрогшего на ветру, но смотрящего на меня уверенно и с небольшим вызовом. Он прямо с порога, без предисловий, заявил мне, что я – воплощение («что?») Рудры («кого?»). Он, помню, не заходя в дом и не давая мне и слова-то вставить, стал рассказывать о языческих богах и их нынешнем бытии. Сначала он смотрел в мои глаза уверенно, говоря с расстановкой и паузами. Парень нес полную чушь, не просился войти, вообще, похоже, я начал внушать ему страх – глаза он все же опустил. Он вещал, что воплощениями чаще всего становятся с рождения, а вот характерные способности проявляются у всех в разном возрасте, что я – исключение и еще очень много всего. Особое внимание он заострял на том, что влияние духа на данном этапе неконтролируемо, поэтому стихийные вспышки агрессии, реакция людей на мои настроения – это все неслучайно. И это опасно, но дело тут не в эмоциональном здоровье людей, а в том, что существует организация, которая может заметить эти необъяснимые происшествия. «Вы можете оказаться в большой опасности, если не придете к нам», - быстро добавил он.
Он меня утомлял, мне казалось, что он несет не просто чушь, я считал, что он – шизофреник, а мне в самую пору вызывать скорую, потому что ничего бредовее и представить нельзя было. Я – бог. Я рассмеялся этой мысли и захлопнул перед парнем дверь, сказал, что меня это не интересует. Он, кажется, говорил, что его легко можно найти, рассказывал, где и как, но я не слушал.
Это все было просто комично, еще постараться нужно, чтобы такое выдумать. Я-то и в бога-нашего-иисуса-христа не верил, а тут моему вниманию предоставляется такая вот информация. Я задвинул ее на край сознания и продолжал жить как жил.
Но тем не менее это не давало мне покоя. Я постоянно возвращался к тем словам о воплощениях, таким нереальным и одновременно логичным.
Одержимый собой и собственными эмоциями, я стал читать о Рудре, осознание того, что это все может быть реальностью, ломало меня. Все чаще я думал: где он, а где – я? Если он всегда был здесь, со мной, то почему это начало проявляться только сейчас? И сейчас ли? Не был ли я им все эти годы, когда жил только испытывая адреналин и агрессию? Мне казалось, что я теряю собственную личность, что уже не вижу правды и лжи, вокруг все серело и меркло. Я перестал ходить на работу, целыми днями слушал Нину Симон и не выходил на улицу. Меня пугало то, как люди реагируют на меня. Постепенно увязая в своей паранойе, я стал замечать странные взгляды на улицах, я шел, а люди обходили меня, не смотрели в глаза, не оборачивались. Но одновременно мне казалось, что за мной постоянно наблюдают несколько пар глаз, я оборачивался, ища эти взгляды, но не мог найти. Все это в совокупности сводило меня с ума, я не хотел быть Рудрой, я хотел быть Брюсом Макфарленом, но дело в том, что я не знал, был он или нет когда-либо вообще.
Со временем даже мой дом начал казаться мне небезопасным. Я переехал обратно к отцу, но это не спасло меня, я по-прежнему был одержим идеей преследования. Душившей страхом, единственной мыслью, крутившейся к моей голове как на каком-то чертовом повторе, была: «Вы можете оказаться в большой опасности».
Я пришел в Вавилон практически сломленным эмоционально, боясь преследования и себя самого.
Только здесь я начал свою жизнь в качестве воплощения. Долгие годы я пытался научиться контролировать свой дар, уживаться с мыслью о том, что Рудра и я – это одно целое, что выбора у меня нет, и что если я хочу жить, то теперь должен быть осторожен.
Теперь, после лет службы в Вавилоне, я уверен, что тогдашняя моя паранойя – не вымысел. Они следили за мной, и я был в одном шаге от смерти, мои способности проявлялись слишком стихийно, и я был дураком, не пойдя за тем парнем в то осеннее утро.
Около шести лет ушли у меня на овладение своей силой, столько же времени я пытался по крупицам собрать материал об Ордене и борьбе с ним.
В Бюро защиты и обороны я попал еще учась контролировать свою силу. Дело в том, что я не ощущал себя в безопасности, мне нужно было какое-то физическое подтверждение того, что я могу быть спасен в случае угрозы со стороны Ордена. Влился я в дела очень легко, задания мне нравились, ведь в них была та знакомая с детства энергетика опасности, но теперь это было не бессмысленно и придавало сил. Моя способность могла быть очень полезной, особенно если караемые о ней ничего не знали. Я полностью ушел в дела Вавилона, мне не давала покоя идея о своей безопасности, я не мог перестать думать о том, что мы являемся для Ордена обычными паразитами. Так я работал недолго, но был бы не против быть рядовым сотрудником и по сей день, но меня назначили сначала помощником главы отдела, а затем и главой. Я не могу сказать, что сыграло тут свою роль - может быть то, что я имел небольшие организаторские способности, а может, что я был заинтересован в обеспечении безопасности воплощений в разы больше других.
Сейчас для меня единственным существующим миром является мир воплощений, и я знаю, что здесь я на своем месте».